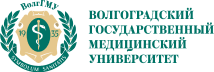Директор НЦИЛС Денис Бабков дал интервью изданию «Фармацевтический вестник»
В декабре 2017 года открылся Научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством Волгоградского госмедуниверситета (НЦИЛС ВолгГМУ). Он должен был стать ядром будущего химико-фармацевтического кластера и сыграть значимую роль в программе импортозамещения. Почему план остался на бумаге? Этот вопрос «ФВ» задал директору центра, проректору по научной деятельности ВолгГМУ Денису БАБКОВУ.

— Стратегия «Фарма-2020» предусматривала реорганизацию ВолгГМУ с целью создания научного центра инновационных лекарственных препаратов с опытно-промышленным производством. Из федерального бюджета на него было потрачено порядка 1 млрд руб. В интервью «ФВ» главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России, на тот момент ректор ВолгГМУ Владимир Петров говорил, что в 2014—2015 годах стартует производство инфузионных растворов и таблеток. Но этого не произошло. Почему?
— Все поставленные в рамках федеральной целевой программы задачи мы выполнили. Была идея собрать в одном месте ранние стадии разработки. Синтезом веществ занимались коллективы Южного федерального университета, Российского педагогического университета им. Герцена и других вузов, а мы делали то, что касается фармакологии (изучение активности, безопасности соединений на животных и клеточных моделях). Мы успешно подготовили препараты к клиническим испытаниям в рамках восьми госконтрактов.
Что касается выпуска инфузионных растворов на базе производственной аптеки и опытного производства твердых ГЛФ (для обеспечения КИ новых препаратов), они не состоялись из-за изменений законодательства. В частности, на этапе проектирования центра требования о GMP-сертификации не было, а выполнить его сегодня мы не в состоянии по объективным причинам. НЦИЛС расположен в центре Волгограда. У нас есть опытный участок, на котором мы можем делать твердые лекарственные формы и осуществлять контроль их качества, используем его для учебной практики будущих провизоров и для разработки лабораторных регламентов.
— Почему подготовленные к КИ препараты не дошли до финиша — до пациента?
— До внедрения в среднем доходит только 5—10% кандидатов. Многие проекты программы оказались невостребованными, хотя прошли экспертную оценку Минпромторга и Минздрава. Возможно, потому, что изначально не проконсультировались с индустрией о том, какие препараты, по каким терапевтическим направлениям ей будут нужны через 5—10 лет. Были какие-то заделы, их и стали развивать. Например, у нас есть противоязвенный препарат, о котором фармкомпании говорят: «Молекула хорошая, работает чуть лучше, чем то, что сегодня есть на рынке, но не настолько лучше, чтобы мы в нее инвестировали». В идеале такие вещи нужно тщательно просчитывать с привлечением проектных команд, в которых будут представлены все участники отрасли — от госзаказчика, разработчика до производителя и врача. Мы работаем в этом направлении.
С другой стороны, разработанный нами анальгетик без наркогенного потенциала до сих пор вызывает интерес индустрии. Есть успешный опыт трансфера разработки в формате спин-офф компании, которым мы гордимся. Мы разработали молекулу, в том числе на средства Минпромторга, открыли дочернее юрлицо, которому передали по лицензионным договорам права на дальнейшую разработку. Речь идет о «Дипиароне» — потенциально первом в классе агонисте рецепторов GPR-119 для лечения сахарного диабета 2-го типа. «Дочка» привлекла средства венчурного инвестиционного фонда «Юникорн Кэпитал», что позволило завершить I фазу КИ. До конца года должна начаться II стадия. Готовится к клинической фазе наше средство для профилактикидиабетической нефропатии. По заказу компании «ЭЛТА» разработали антикоагулянт «Ангипур», сейчас он на III фазе КИ.
— Был еще план по созданию в Волгоградской области химикофармацевтического кластера. В качестве партнера рассматривалась «СИА Интернейшнл», которая обанкротилась в 2020 году.
— Мы сейчас вернулись к теме кластера, ведем переговоры с новыми потенциальными партнерами: есть фармкомпании, которым тесно в рамках Калужского фармкластера, есть индийские производители фармсубстанций, которые хотят локализовать производство в России. А у нас в области имеются площадки по разработке регламентов для активных фармсубстанций — ВолгГТУ и по их производству — Волгоградский филиал Института катализа СО РАН и АО «Волжский оргсинтез».
— Как вы оцениваете «Фарму-2030»?
— В ней сделан упор на биомедицинские, клеточные продукты, генетические, высокотехнологичные препараты. Это можно понять. С ними все более предсказуемо, процент успеха намного выше, чем с малыми молекулами, которые являются нашей специализацией. Минпромторгу мы говорим, что готовы участвовать в новой программе, внести свой вклад в переключение отечественной фармпромышленности на оригинальные препараты. Считаем целесообразным развить сетевое взаимодействие и кооперацию центров, созданных в рамках «Фармы-2020». У нас есть все необходимое для наших прикладных задач, и мы обновляем парк за счет внебюджетного финансирования. С ними все более предсказуемо, процент успеха намного выше, чем с малыми молекулами, которые являются нашей специализацией. Минпромторгу мы говорим, что готовы участвовать в новой программе, внести свой вклад в переключение отечественной фармпромышленности на оригинальные препараты, показываем наши мощности, кадровый состав, портфолио, но пока не почувствовали никакого эффекта от программы. Считаем целесообразным развить сетевое взаимодействие и кооперацию центров, созданных в рамках «Фармы-2020».
— Ваш центр укомплектовали оборудованием почти 10 лет назад. Не устарело оно за это время?
— У нас есть все необходимое для наших прикладных задач, и мы обновляем парк за счет внебюджетного финансирования.
— Насколько вы обеспечены кадрами? Идет к вам молодежь?
— У нас штат менее 50 единиц и достаточно стабильная штатная численность научных сотрудников. Мы выращиваем будущие кадры со студенческой скамьи, заинтересовываем их наукой через кружки при кафедрах. Что делаем, чтобы их удержать? ВолгГМУ оплачивает учебу в аспирантуре перспективных молодых исследователей, а потом они должны отработать в вузе три-пять лет. Сейчас по этой программе у нас учатся и трудятся семь человек. Хотя люди приходят к нам не за большими деньгами, а потому что их увлекает исследовательская работа, мы всячески способствуем тому, чтобы они выигрывали гранты, участвовали в коммерческих проектах. Так что тот, кто много работает, в финансовом плане чувствует себя хорошо.
— Чем занимается центр в этом году?
— Готовится к аккредитации по надлежащей лабораторной практике (GLP). Это повысит нашу конкурентоспособность, качество исследований по биоэквивалентности, по безопасности. Недавно мы открыли новые лаборатории по молекулярной биологии и по нейротехнологиям. Мы давно занимаемся созданием новых психотропных средств и теперь решили попробовать себя в разработке нейрокомпьютерных интерфейсов, медицинских изделий для реабилитации, а также для лечения эпилепсии. Необходимо все время быть в тонусе, соответствовать новым нормативным требованиям. Это непросто с учетом того, что у нас небольшой коллектив и значительная часть сотрудников преподает, причем это их основная работа, а наука на втором плане.
Материал опубликован в №8 «Фармацевтического вестника»
Фото из личного архива Дениса Бабкова
 Вход в систему
Вход в систему